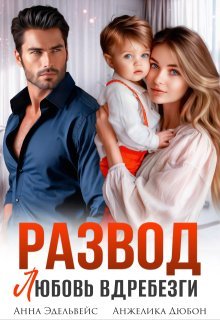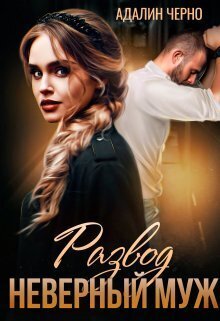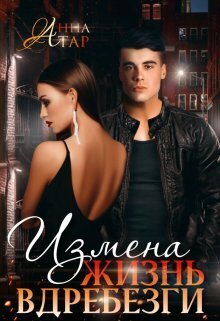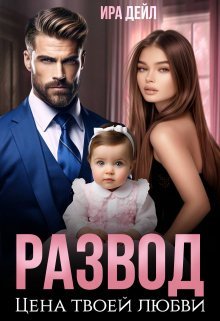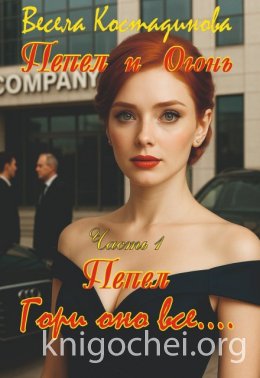🕮 Читать книгу «Развод. Разбивая вдребезги» онлайн
Автор: Весела Костадинова
Как легко найти того, кто окажется крайним, кого можно сделать мишенью для своей боли и злобы. Молодая женщина, которую назовут блядью, красивая девушка, которой в след несется шлюха, или девочка, которую обзывают ублюдком и тварью, выбрасывая из дома как ненужную кошку. Мой отец, Вов, мог поступить как ты, мог сделать для меня то, что сделал ты для Снеги. Но его статус, его сука-жена ему были важнее меня. А ведь маме он даже не сказал, что женат, когда меня заделывал. Она любила его, Вов, верила каждому его слову, а он врал ей в лицо, пока она носила меня под сердцем. И когда её сбила машина прямо у меня на глазах — мне было 11 лет — он не нашёл ничего лучше, как притащить меня, перепуганную, в слезах, к себе домой. Сказал своей жене: «Присмотри за ней». А она посмотрела на меня, как на мусор, как на грязь под ногами, и вышвырнула из их жизни раз и навсегда. Я помню её взгляд, Вов, холодный, пустой, как у рыбы на прилавке. А потом был приют. Шок от того, что вокруг другой мир — серые стены, запах хлорки, крики ночью. Кошмары, в которых мама снова и снова падает передо мной, толкает меня в сторону, а сама исчезает под колёсами. Её лицо — красивое, с мягкими чертами, залитое кровью, с пустыми глазами. Я кричала по ночам, просыпалась в мокрой постели, но никто не приходил. Никто не разбирался, никто не говорил со мной, не объяснял, почему из тёплых рук мамы я оказалась в этом аду, окружённая десятками таких же потерянных. Слова рвались из меня, я хотела кричать, звать её, но тело молчало — голос пропал, как будто его вырвали из горла.
Она сделала паузу, её пальцы сжали край одеяла, костяшки побелели.
— Знаешь, Вов, что делают с такими детьми? Их отправляют в ещё больший ад — психоневрологический интернат для детей. Там ты перестаёшь быть собой. Ты больше не человек, не ребёнок — ты вещь, предмет, который можно сломать и выбросить. На тебе делают отчётность. На тебе списывают бюджет. На тебе покупают себе квартиры в ЖК «Тихие воды» и машины с мигалками. У тебя формально всё есть — и питание, и лекарства, и игрушки, и занятия с дефектологом. Только ты не видишь ничего из этого. Потому что деньги ушли «в освоение», «в тендер», «в подрядчика». Потому что всё разворовано…
А тебя привязывают к кровати ремнями, пока кожа не начинает кровоточить, кормят насильно, засовывая ложку в рот, даже если тебя рвёт от этой бурды — переваренной каши или протухшего супа. Тебя колют успокоительными, пока ты не превращаешься в овощ, за то, что, пытаясь сказать хоть слово, выдаёшь одни хрипы и рык. Я пыталась говорить, Вов, я билась в этих стенах, но из меня выходило только это — звериный вой. Моя красота стала проклятьем. Среди серых, унылых лиц детей с пустыми глазами и сломанными телами я светила, как яркая бабочка, и это привлекало всех — от персонала до других обитателей этого ада. В 12 я узнала, что такое боль по-настоящему. Куда там до побоев и драк, до таскания за волосы и пинков в живот… нет… это была боль, когда мир в глазах темнеет, когда тебя разрывают на куски и больше ты собраться не можешь, когда говорят, что ты красива и снова и снова пронзая раскаленным железом. А утром тебя зашивают наживую, чтоб не откинула копыта, чтоб не привлекла внимание проверяющих. Дают немного отойти и все повторяется снова. И снова и снова и снова…
А он настолько был поглощён, трахая меня, светило российской психиатрии 45-ти лет, в своих дорогих часах, в гладко выглаженной женой рубашке, женщиной, которая на суде обвиняла меня в том, что я совратила ее мужа; с прической, сделанной в дорогом салоне, что не заметил как у меня пришли месячные. И случилось то, что случилось. Меня просто выскребли, не заморачиваясь ни на что, а за одним и стерилизовали, чтоб не иметь проблем в будущем. В тот день мне исполнилось 14.
После этого боли я больше не чувствовала — ни физической, ни какой другой. Всё выгорело. Я наглоталась таблеток прямо в день проверки — украла их из кабинета медсестры, ела горстями на глазах у высокой комиссии в костюмах, журналистов, щелкающих фотоаппаратами и членов ОНК, которым разрешили зайти с проверкой. Они смотрели, как я давлюсь, как падаю на пол, и я писала одно слово на кафеле своей кровью, вытекающей из прокушенной губы: «помогите»… Мне повезло, среди проверяющих была уполномоченная по правам человека, строгая, хмурая женщина, которая одним взглядом заткнула директора. Она пришла ко мне, когда я очнулась в обычной больнице и говорила со мной наедине. И от ее спокойного, уверенного, не равнодушного взгляда речь вернулась так же внезапно, как пропала — я заговорила на допросе, хрипло, но чётко. Потом были проверки, посадки, крики в новостях. Тесты, полиграфы, психолог с усталыми глазами… Подсуетившийся папочка, которому рассказали, попытался забрать меня, но я уже была другой. И ненависть — глухая, надёжная, как сталь — стала моим фундаментом, гораздо более надежным чем жалость или призрачная любовь. Как и тебе в СИЗО ненависть помогла выжить и мне. И Лора…
Лора… Одна операция — и она могла бы стать полноценным человеком, Вова. Всего одна, чтобы исправить то, что сломала природа или чья-то небрежность, чтобы дать ей шанс ходить, жить, дышать без боли. Но кому это было нужно? Кому было дело до того, что она умна до гениальности, что её мозг работал, как машина — чётко, быстро, безошибочно? Кому было дело до её феноменальной памяти, которая цепляла каждую мелочь — лица, слова, цифры, целые страницы текста, которые она могла пересказать спустя годы? Знаешь, из всех работников этой преисподней — из всей этой толпы равнодушных теней в застиранных халатах — только одна, Вов, одна-единственная санитарка оказалась человеком. От неё вечно несло жареной картошкой и квашеной капустой — резкий, домашний запах, который пробивался сквозь вонь хлорки и сырости. Она была низенькая, с усталыми руками и красными щеками, и звали её, кажется, Нина — я не помню точно, но Лора звала её «тётя Ниночка». Эта женщина приносила Лоре книги, оставшиеся от её дочери, — потрёпанные учебники, какие-то детские сказки, а иногда даже старые журналы: «Наука и жизнь», «Юный техник», мать его за ногу. Лора впитывала всё это, как губка, жадно, будто это был её единственный выход из той клетки. В свои 14 лет она читала учебник по экономике Липсица — толстый, с мелким шрифтом, который та санитарка случайно притащила из дома, думая, что «там картинки есть». Лора не просто читала — она разбирала его, шептала формулы, рисовала в уме графики, пока я сидела рядом и слушала её тихий голос, не понимая половины слов.
Она была тихой и спокойной. Не кричала, не билась, даже когда её кололи или привязывали к койке за какой-то мелкий проступок. Её не били так часто, как других, не такая красивая, как я, с её бледной кожей, тонкими губами и чуть кривым носом, она не светилась, как я, не притягивала эти жадные, грязные взгляды. И насиловали её реже, но всё равно случалось — я видела, как она потом молчит, сжимает кулаки и смотрит в стену, пока я сижу рядом и не знаю, что сказать. Она была старше меня на два года, и только около неё я могла хоть немного отдохнуть. Лора не могла защитить меня — у неё не было сил, не было возможности встать между мной и этим адом, но она была рядом. Всегда рядом. Единственная рядом. Когда я приползала к ней, едва дышащая, почти умирающая, она клала мне руку на плечо — холодную, слабую — и молчала, пока я не начинала дышать ровнее. Она читала мне вслух, когда я не могла уснуть, её голос был тихим, но твёрдым, как нитка, которая держала меня, чтобы я не развалилась совсем. Она заплетала мои волосы в десятки косичек, создавая невероятные прически. Лора — мой единственный свет в том мраке, Вов, и даже сейчас, когда я думаю о ней, я вижу её глаза — темные, умные, с этой спокойной, почти неземной глубиной.
У меня нет и никогда не будет детей, Вов, как и у нее. Снега — мой единственный ребенок. Не забирай ее у меня….
— Никогда, — шепнул он, чувствуя, что сам сгорает внутри.
— После скандала меня отдали в патронатную семью. И впервые за несколько лет я почувствовала хоть какую-то безопасность. Эти люди были усталыми, измотанными, но не равнодушными. Они забрали не только меня, но и Лору… я вцепилась в нее всеми руками и не хотела отпускать, тем более, что помимо денег от государства мой папаша тоже стал подкидывать им бабла. Там мы могли учится, Вов, пусть без эмоций, но жить. Женщина, воспитывавшая нас, впервые дала мне в руки камеру. И я снимала. Снимала все, что мне нравилось.
В 19 лет я подговорила знакомую залезть в постель к отцу и разрушить его идеальную семью. А Лора, ставшая за несколько лет на ты с компьютерами, вывалила в интернет его коррупционные схемы. В тот день, когда он потерял всё — дом, карьеру, репутацию, — я стояла у окна, глядя на дождь, и чувствовала… ничего. Только облегчение, как будто сбросила с плеч мешок камней, и злорадство, тихое, ядовитое, которое грело меня изнутри. Я нашла способ выжить — не просто выстоять, а взять своё.
Начинала с самых тупых и жадных — тех, кто видел во мне только тело и думал, что за деньги можно купить всё. Я даже не спала с ними — разводила на бабки, играя на их похоти и глупости. Улыбалась, обещала, тянула время, а потом исчезала с копиями тех документов, которые мне были нужны. А Лора потом заставляла платить. Бывало, ошибалась — попадались те, кто быстро соображал, и я едва уносила ноги. Но с каждым разом получалось всё лучше — я училась читать их, как открытую книгу, предугадывать шаги, оборачивать их жадность против них самих.
В 23 мы провернули первую серьезную аферу и вышли сухим из воды.
Я могла бы выйти замуж за того долбоеба, но он вызывал только отвращение. А его деньги и деньги данные за него, мы не пустили на воздух, на шмотки и красивую жизнь, мы их стали вкладывать. В образование, в инвестиции, в будущее. На 24 день рождения Лора подарила мне настоящую, профессиональную камеру, которая стала моей второй, официальной работой. Идеальной легендой. Отдушиной и болью одновременно.
Но я так ничего и не чувствую к мужчинам. К тебе — тоже.
Ну и кто из нас чудовище, Вов?
Владимир смотрел на неё, и его лицо исказилось от невыносимой муки. Его глаза, воспалённые от лихорадки, расширились до предела, зрачки дрожали, а слёзы — горячие, солёные, неудержимые — хлынули по щекам, оставляя блестящие дорожки на его бледной, почти серой коже. Его рука, всё ещё лежавшая на её щеке, задрожала так сильно, что пальцы судорожно сжались, вцепившись в неё, как в последнюю ниточку, удерживающую его от падения в ту же бездну, о которой она говорила. Он хотел кричать, но горло сдавило спазмом — губы дрогнули и челюсть напряглась так, что проступили тёмные жилы на висках, пульсирующие под кожей. Его грудь сотрясалась от кашля, рвущего лёгкие, но он пытался подавить его, заглушить, и каждый хрип вырывался с такой болью, будто её слова вонзались в него, как ножи, разрывая изнутри. Она чувствовала это — почти кожей ощущала, как в нём клокотала ярость, как он хотел убивать, крушить, рвать на куски. Его взгляд, полный бессильной злобы и отчаяния, метался по её лицу, ища хоть что-то, за что можно зацепиться.
А потом он резко наклонился и прижался губами к её лбу. Не поцеловал — просто прижался, горячо, порывисто, его мокрые от слёз щёки коснулись её кожи. Это было неосторожно, без спроса, молча, но с такой силой, что она ощутила его дрожь всем телом. Его дыхание обожгло её, прерывистое, хриплое, тяжелое, рваное.
— Я люблю тебя, Лея, — его голос, тихий, надтреснутый, прорвался сквозь кашель, как сквозь стену. — Я люблю тебя. Даже если ты меня — нет. Мне плевать на это. Ты и Снега — моя семья. Не любишь — и не надо, буду просто жить рядом, не хочешь — и пальцем не задену. Но никто не запретит мне любить тебя, даже ты сама.
Её губы непроизвольно дрогнули, и скопившаяся боль — та, что она годами прятала под бронёй — вырвалась наружу, исказив её лицо. Она сжала их сильнее, пытаясь удержать рвущийся наружу всхлип, но глаза предательски защипало. Он осторожно и бережно поцеловал ее в закрытые глаза.
— Я спать хочу… — выдохнула она, почти шёпотом, голос дрожал от усталости.
— Спи… Я буду рядом… — он ответил тихо, но твёрдо, не отпуская её из рук.
— Мне холодно… — её голос стал ещё слабее, почти детским, и она сама удивилась, как это вырвалось.
— Забирайся под одеяло, Лея, — он чуть сдвинулся, приподнимая край одеяла дрожащей рукой. — Я горячий, ты, похоже, тоже гореть начинаешь. Поднимем нам температуру до максимальной.
И она послушалась. Впервые в жизни послушалась приказа мужчины — не потому, что боялась, а потому, что хотела. Забралась под одеяло, прижалась к его горячему, лихорадочному телу, чувствуя, как его жар смешивается с её собственным. Её голова легла ему на плечо, а рука — на грудь, туда, где билось его сердце, быстро, неровно, но живо.
— Вов… — прошептала она, уже проваливаясь в сон.
— М? — он повернул голову, его губы коснулись её волос.
— Завтра ты за главного… Похоже, я всё… — её голос был едва слышен, слабый, как дыхание.
— Не вопрос, — ответил он, прижимая ее сильнее к себе.