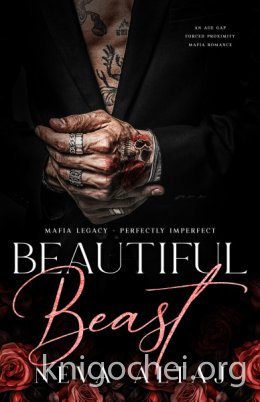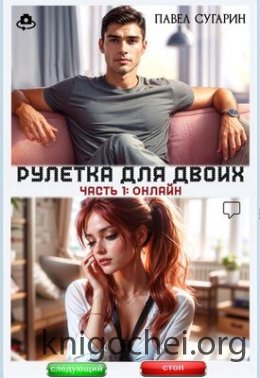🕮 Читать книгу «После развода. Самая красивая женщина» онлайн
Автор: Ария Тес
Размер шрифта:
Это хорошая поговорка, которая лучше всего описывает все то, что я чувствую, когда нахожусь в своем доме, где я выросла.
Мама так и не продала его, и вот сейчас, когда я сижу на хорошо знакомой, светлой кухне, будто получая билетик в прошлое. Каждый раз, когда я сидела на том же дубовом стуле и мяла пальцами одну из маминых любимых ажурных скатертей, мне гораздо проще прорыдаться и выговориться.
Чем я и занимаюсь.
Захлебываюсь в слезах и вываливаю на нее все. Все! Начиная с того момента, когда впервые увидела, что Глеб вернулся другим домой, заканчивая этой ужасной поездкой к его мадам.
- … И я…а она…а потом…он…букет такой еще припер, сволочь! - сумбурное бурчание прерывает громкий, до комичного детский всхлип.
Мама мерно моет посуду…
Она у меня вообще такая. У нее внутри может бушевать буря, но она никогда ее не покажет, потому что считает, что слезы — это, конечно, хорошо, но они делу не помогут. Мою эмоциональность она списывает на профессию, а еще на очень нежный возраст. Ну и пусть! Может быть, она не сидит и не обнимает меня, не кудахчет вокруг, а по факту — это лучшее, что сейчас мама может для меня сделать. Дать выговориться и помочь советом. Что мне делать? Я не знаю. Я совершенно не понимаю, что мне теперь делать…
- … Там дождь шел, и я…я чуть не врезалась…
Мама резко застывает, а тарелка выскакивает у нее из рук и гулко бьется о стенки раковины. Я замираю. Не решусь сказать, что на мгновение подумала о том, как было бы круто все-таки врезаться…только маме это и не нужно. Думаю, у всех мам работает какая-то внутренняя чуйка на весь тот треш, который творят их дети, и мне стыдно. Мне очень-очень стыдно, поэтому я затихаю окончательно и опускаю глаза на свои пальцы.
Пожалуйста, прости меня за эту глупость…
Вода выключается. Ну, вот сейчас она мне точно скажет, что я идиотка… А может, и пусть? В смысле…думаю, мне надо услышать это, чтобы окончательно подвести итог всего того, что со мной случилось.
Мама медленно оборачивается, и знаете? То, что она выдает дальше, чуть надменно приподняв бровь — это действительно лучшее, что со мной происходило.
- И это все…из-за мужика, Аня?
Вопрос такой простой, но такой точный. Он бьет в самую цель.
Ты тут сидишь, убиваешься. Ты убивалась до этого. Ты почти не спала. Ты позволила себе унизиться. Ты позволила унизить себя, а потом еще смотреть с мерзкой, липкой жалостью…и ради чего?! Ради мужика?
Как глупо…
Я внезапно чувствую себя такой идиоткой, что все остатки истерики испаряются и уходят куда-то на задний план, а я сама в тупике. Притом не в таком же, в каком была всего пару мгновений назад. Этот тупик означает одно: твой мозг встает на место. Со скрежетом, возможно, медленно, но встает.
Действительно.
Я все это допустила…из-за мужика? Господи, какой позор; где был мой разум? Я как будто его потеряла вместе с логикой и самоуважением.
Какого черта?...
Краснею и моргаю часто. Кожу неприятно стянуло, а ресницы слиплись. Мама долго смотрит на меня, а потом вздыхает и подходит к холодильнику, откуда достает вино и разливает его молча по бокалам.
Один двигает мне.
- Выпей. Оно ничего такое…в меру кисленькое, в меру сладенькое. Медовое. Мне понравилось.
Растерянно смотрю на бокал, потом снова на маму. Она не реагирует, выпивает свой бокал и громко вздыхает, а потом опускается на стул напротив меня и кивает.
- Знаю, Аня. Это очень больно…предательство — это страшно. Меня, конечно, Бог уберег от такого. Твой отец был потрясающим мужчиной, и знаешь? Так редко бывает…чтобы человек был и хорошим отцом, и хорошим мужем, но он был таким…
- Я знаю…
- Пей.
Пью.
Послушно подтягиваю к себе бокал и делаю небольшой глоток. И правда, ничего такое. Вино белое, фруктовое, отдает медом и оставляет хороший, сладкий привкус на языке.
Мама пару мгновений молчит, словно задумываясь над тем, что скажет дальше. Или над тем, как было раньше, когда папуля был еще жив…