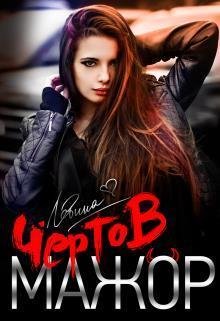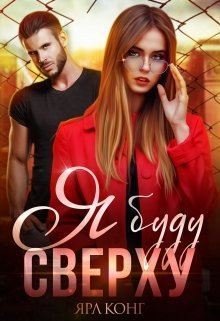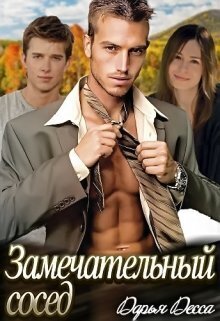🕮 Читать книгу «Сосед будет сверху» онлайн
Автор: Ксюша Левина, Катя Саммер
Размер шрифта:
— Да, но...
— Нет, правда, я… — продолжаю возмущаться, но мою речь прерывает порыв ветра, с которым распахивается больничная дверь, и Арнольд, кажется, выдыхает. — Что там?
Я смотрю на медработницу и напрягаюсь в одну секунду.
— Вы можете идти переодеваться. Александра Сергеевна сказала, что вы ей пригодитесь. И… — медсестра тушуется, опустив голову, — она…
— Говорите как есть.
— Она просила передать, что… если сейчас же не притащитесь, то можете… — женщина нервно сглатывает, — сами можете рожать своих мальтипублей. Или мультипуделей — я не разобрала, а она умывает руки. И дальше… дальше было нецензурно.
Блять, эти слова… Я охренеть как счастлив. Нет, правда. Губы сами собой разъезжаются в улыбке, аж челюсть сводит.
Вот это Пушкина, вот это моя девочка.
Мчу за медсестрой уже в предвкушении. Каких-то двадцать минут, и я там, с ней. Смотрю на Саню и умиляюсь самым натуральным образом.
— Выглядишь ужасно, — улыбаюсь я ей.
— ЗАКРОЙ. СВОЙ. РОТ! — вопит она, резким движением убирая с лица взмокшие волосы. — Это ты все затеял! Ты! А отдуваюсь почему-то я!
Ее щеки покрыты красными пятнами, глаза, кажется, на мокром месте. Нервничает, переживает, сжимает зубы и почти рычит.
— Да ладно, все зашибись будет. — Я подхожу к ней и протягиваю руку, но Саня закатывает глаза.
— Я позвала тебя сюда сказать, что… что от тебя одни проблемы!
— Говори, говори, я внимательно слушаю.
Ей на живот цепляют странную штуку с датчиками, а из аппарата рядом начинает выходить лента и доноситься быстрый равномерный стук, будто… чей-то пульс?
— Дантес, — жалобно скулит Пушкина, и у меня сердце разрывается от ее страдающего вида. А вроде говорят, что дети — это счастье и даже цветы жизни. — Может, пока не поздно, ну его, а? Пойдем шаурмы пожрем?
— Мальтибуль ваш не рассосется, — натягивая на ходу перчатки, строго заявляет вошедший в палату врач, который часом ранее встречал нас. — Так и что? Говорят, тут наследник самого Дантеса на свет появится.
— Наследник Пушкиной и Дантеса, — рычит Саня.
— Простите, ваша светлость, продолжайте, пожалуйста, тужиться, — хохочет тот в ответ, изучая выходящую из аппарата ленту.
Пушкина сжимает мои пальцы так, будто вот-вот сломает. Сразу все.
— А... скоро? — спрашиваю я осторожно у доктора, а тот в ответ говорит нечто про небольшое раскрытие и уходит без каких-либо прогнозов, пожав плечами и прихватив бумажную ленту с собой.
Мы с Пушкиной снова остаемся одни, и почему-то я начинаю волноваться. Как пацан. Мне реально страшно. Это я ее боюсь? Я усмехаюсь себе под нос — да, блин! Она вообще первая и единственная девушка, от которой у меня мурашки по коже.
— Пушкина — ты страшная женщина. — Я наблюдаю за тем, как на очередной схватке она доламывает мне пальцы и стараюсь улыбаться.
— Я... Я не Пушкина... Я — Данте-ес! — воет она. — Давай болтай, блин! Неси чушь какую-нибудь!
— О, это я запросто, — погладив свободной рукой ее макушку, говорю ей. — Я вот подумал. А не назвать ли нам сына в честь пращура (отдаленный предок, родоначальник)? Ну, в честь Дантеса?
— Владимиром? — Она выдыхает и, ослабив хватку, откидывается на кушетку. Я уже заметил закономерность — у меня есть что-то вроде минуты адекватной Алекс, прежде чем ее снова начнет колбасить.
— Каким на хрен Владимиром?
— Дантесом.
Блин, это похоже на разговор слепого с глухим.