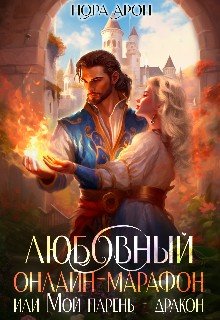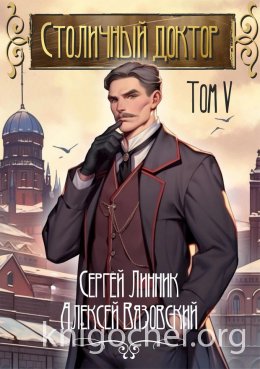🕮 Читать книгу «Чудесный сад жены-попаданки» онлайн
Автор: Лина Деева
Размер шрифта:
— До завтра, леди Каннингем.
Врач поклонился и в сопровождении Лили вышел из комнаты. А я подошла к не сводившему с меня глаз Райли, потрогала ладонью его лоб и подавила вздох: конечно, горячий.
Спросила:
— Хочешь пить?
Однако раненый с трудом качнул головой: нет.
— Тогда спи. — Я едва удержалась, чтобы не погладить его по волосам. — Я ещё посижу здесь.
Райли попытался изобразить губами «не нужно», однако я сделала вид, будто этого не заметила. Подошла к окну, задёрнула шторы и опустилась на стул в ожидании Лили.
Остаток дня и особенно ночь обещали быть непростыми, и к ним следовало подготовиться.
Глава 96
Я распорядилась принести поздний обед (или, скорее, ранний ужин) в комнату Райли и впервые за почти сутки поела. Затем, оставив Лили с раненым, принесла из кабинета книги, документы и писчие принадлежности в расчёте отвлекать себя работой и чтением. Оценила возможности стула, на котором мне предстояло провести всю ночь, и отправила горничную к Хендри с распоряжением раздобыть какое-нибудь кресло. Слуги не подвели и оперативно (а главное, тихо) доставили мне кресло из ближайшей гостевой комнаты. Умница Лили присовокупила к нему гобеленовую подушечку и плед, так что к нелёгкой ночи я была готова по всем фронтам.
Я отдавала себе отчёт, что для благородной леди (если она не Флоренс Найтингейл) такое самопожертвование — перебор. Другая на моём месте оставила бы Райли под присмотром служанок, велев им, например, сменять друг друга каждые три часа, чтобы не сильно утомлялись. В конце концов, напоить раненого водой или положить ему на лоб свежий компресс мог кто угодно.
Но я также отчётливо понимала: с большой долей вероятности этой ночью случится кризис. После ухода Этельберта Райли практически всё время пребывал в забытье, лишь изредка разлепляя глаза и почти неслышно прося пить. Я не могла бросить его, понадеявшись на девиц, имевших весьма смутное представление о лечении кого бы то ни было от чего бы то ни было. И потому собиралась до утра сидеть у его постели, откровенно начхав на любое «ценное» мнение и любые слухи, которые наверняка поползли бы по замку.
Райли должен был поправиться. Остальное не имело значения.
***
Ночь и впрямь выдалась тяжёлой. Температура у раненого подскочила, по ощущениям, до сорока, и все мои компрессы и обтирания помогали чуть больше, чем никак. К счастью, он не бредил и не метался, но был так напряжён и так шумно и страшно дышал сквозь стиснутые зубы, что становилось понятно: там, в температурных галлюцинациях, он сражается с самыми жуткими из чудовищ.
Я тоже не сдавалась. Меняла Райли компрессы, обтирала тело слабым раствором уксуса, смачивала запёкшиеся губы чистой водой, а когда удавалось, старалась выпоить ему хотя бы несколько глотков специально приготовленного Роной отвара шиповника. А ночь всё тянулась и тянулась: бесконечная, болезненно жаркая, неприятно пахнувшая уксусом и потом. Оплавлялись свечи в высоких подсвечниках, к горлу то и дело подкатывало отчаяние. И не знаю, в какой момент, но я начала петь.
Точнее, мычать под нос что-то условно мелодичное и почему-то колыбельное: не то «Спи, моя радость, усни», не то «Баю-баюшки-баю». Просто фон, белый шум, отвлекающий от ощущения бессилия и страха потери.
Но неожиданно моё мычание начало действовать не только на меня. Райли как будто стал меньше сжимать кулаки и скрипеть зубами, дыхание его сделалось тише. Тогда я, суеверно вдохновлённая мнимыми или реальными переменами, запела уже по‑настоящему. По-русски, но с ужасным акцентом: Мэриан не умела правильно произносить все звуки чужого языка. Однако главное, что это помогало: из мышц раненого уходило напряжение, черты лица расслаблялись. Жаль, не было градусника, чтобы следить за температурой, и в том, что его лоб стал прохладнее, я почти наверняка сама себя убедила.
— Спи, моя радость, усни, — в бог весть какой по счёту раз напевала я, сидя на краю постели и влажной тряпочкой обтирая ему ключицы, — в доме погасли огни…
Прижала ткань к сгибу локтя, провела по внутренней стороне до запястья и глупым жестом поддержки погладила наконец-то расслабившиеся пальцы, совсем не ожидая, что они вдруг сожмут мои.
— Мэри.
Хрипло выдохнутое имя, подобие улыбки на сухих губах — словно после всех кошмаров Райли наконец увидел мирный сон.
— Месяц на небе блестит… — В носу защипало, голос предательски дрогнул, однако я продолжала: — Месяц в окошко глядит. Глазки скорее сомкни…
Конечно, я могла высвободиться — не так уж крепко меня и держали. Но отчего‑то казалось, что это как отнять спасательный круг у утопающего. И потому я продолжала сидеть, отложив тряпочку и мягко сжимая руку Райли в ответ. Время капало со свечей расплавленным воском, усталость — моральная и физическая — давила на плечи всё сильнее, глаза закрывались сами собой.
И в какой-то момент я просто не вынырнула из прятавшейся под веками ласковой темноты.
***
Я уже и забыла, когда в последний раз просыпалась в одной постели с кем-то: чувствуя рядом чужое дыхание, слыша размеренный стук сердца, ощущая под щекой твёрдость горячего плеча. И хотя тело ужасно затекло, во всём этом было столько уюта и покоя, что шевелиться совершенно не хотелось.
Однако пришлось. Память сухо напомнила о вчерашних событиях, и я торопливо разлепила глаза.
Райли — как он?
Я приподнялась на локте и в жемчужном свете раннего утра встретила тёмный взгляд мужчины, на чьём плече (к счастью, здоровом) беззастенчиво проспала остаток ночи. И столько глубины было в этом взгляде, столько невыразимой нежности, что меня бросило в жар дикого смущения.