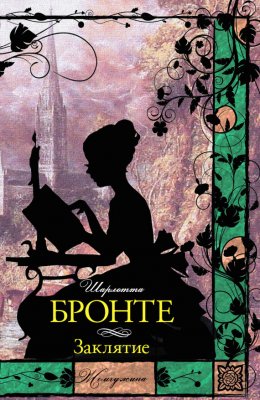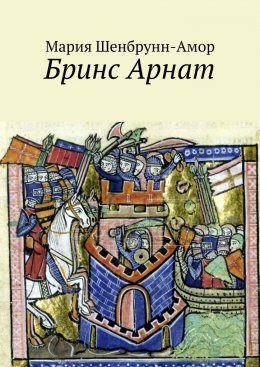🕮 Читать книгу «Чудно узорочье твое» онлайн
Размер шрифта:
— Я Кирилла мать, — бледными губами произнесла она, — Кирши Олельковича.
«Кирши?» — уловило сознание. Неприятно царапнуло грудь. Зорька чуть отступила, сделав шаг к крыльцу. Осьма поджала губы, видно было, что будь ее воля, она не дала бы сейчас говорить этой богато одетой бабе, погнала бы вон.
— Беда с ним приключилась, с сыночком моим родненьким, — и незнакомка залилась горючими слезами.
— Что случилось? — испуганно прошептала Зорька.
— Молодой, оклемается, — не выдержала и, не выслушав рассказ, дернула за руку хозяйку Осьма, как бы призывая очнуться.
— Побили его вчера на княжьем дворе, детский[1] владимирский. Вчера на своих ногах под руки привели, а сегодня встать не может, ноги отказали, — и женщина снова завыла.
— Я воды принесу, — кинулась было в избу Зорька.
— Не надобно, — схватила ее гостья цепкой большой рукой. — Пойдем со мной, проведай его. Христом Богом молю!
— Чего это ей идти? — попыталась перетянуть Зорьку Осьма, хватая ее за другую руку.
— Пусть навестит, — взмолилась гостья. — Он жить не хочет, в одну точку смотрит, все не мило. Силы уходят. Сыночек мой помирает! Ну, прояви милосердие, ну чего тебе стоит.
— Да что она сделать сможет, коли у него ноги отказали? — продолжала биться за хозяйку Осьма. — Чай, она у нас не ведунья какая.
— Это я, я во всем виновата, — всхлипнула женщина, отпуская руку Зорьки. — Он давно просил к Немке сватов заслать, а я не давала. Дурное болтали, что в наложницах ты у Булгарина, не хотела я такой невестки для сына, правду сейчас как на исповеди говорю. А теперь вижу, лгали люди, вон ты какая добрая, скромная. Прости меня, — и гостья неожиданно бухнулась пред Зорькой на колени. — Прости, глупую, наветам поверила. А хоть бы и правду сказывали, так и что с того, все перемелется, что мука. Пойди, за руку его подержи, не дай сгинуть, — и она кинулась целовать Зорьке руку.
— Эй-эй, — оттянула Зорьку Осьма. — И так про наше дитятко невесть что болтают, а как к вам на двор сходит, так и вовсе гулящей обзовут. Не пущу.
— Да кто обзовет, пусть у тех язык отсохнет. Да пойдем вместе, и ты сбирайся. Христом Богом молю, не дайте сыночка меньшого, любимого, сгубить!
— Хорошо. Пойдем, — сухо проговорила Зорька. — Сейчас кожух накину.
Она побежала в избу, Осьма кинулась за ней.
— Не ходи, не ходи туда! — зашептала она хозяйке в самое ухо. — Они ж тебя не выпустят, с калекой оженят. Вишь, как здоровый был, так не нужна была, небылицы непотребные собирали, а теперь на коленях ползают.
— То знак Божий, — тихо проговорила Зорька. — Знак, чтоб я Данилу отпустила, грех ему на плечи не укладывала. Коли б я умирающей матери чего обещала, я бы тоже так поступила.
— Да мать его заразила себя[2], грешница великая. Никто ее не топил, сама в воду кинулась. Мне про то Вольга признался. Нешто нужно ей слово держать? Борись за любого. Дался тебе этот Кирша их непутевый, небось сам на кулак напросился, буян известный, пусть и расхлебывают.
— Я к тебе приходить стану, не брошу, — обняла Зорька Осьму, — заступница ты моя. Отпустить его надобно, сожрет его изнутри, ежели останется. Я то сейчас поняла.
— Я с тобой пойду, — накинула Осьма поверх повоя шерстяной убрус.
— Не надобно. Даниле скажешь, я по его слову мужа себе избрала, пусть уходит да не тревожится. Вот, пусть прочтет, — и Зорька сунула Осьме давно уже прибереженную бересту. «Отпускаю тебя», — написал ей старец с паперти. «Как захочешь, отдай, не захочешь в огонь кинь», — напутствовал Мефодий. Не кинула в огонь, вот и пригодилась берестка.
Снег уже тонким слоем лежал под ногами, Зорька шла по этому чистому ковру как во сне.
— А ты не думай, что в скудости жить станешь. У меня два старших сыночка, прокормят. Сыта — обута будешь, — как заклинание торопливо говорила мать Кирши, — и челядь имеется, белые руки работой изнурять не надо будет. Ручки-то у тебя вон какие беленькие да мягонькие. А приданого нам и не надобно.
— Двор мне остается, — отозвалась Зорька, не нищая она, чтобы эти люди там не думали, все ей Данила оставляет по щедрости своей, кроме себя.
Пред взором открылся большой двор, с двухъярусной крепкой избой, клетями да подклетями, конюшней да амбаром. Богато жили княжьи дружинники. Челядь сбежалась поглазеть на гостью. С крыльца сошел муж лет тридцати пяти, чертами чем-то смахивающий на Киршу, только более степенный, заматеревший.
— Вот, привела, — с надеждой в голосе проговорила мать старшему сыну.
Тот коротко поклонился и повел гостью по дубовой лестнице в дом.
— Лежит, ни с кем разговаривать не хочет, в щель на стене смотрит, — пояснил старший брат у самой двери в ложницу.
Дверь бесшумно распахнулась. Зорька шагнула за порог, хозяева остались позади. При тусклом свете светцов на широком ложе лежал осунувшийся Кирша. Он был и похож, и не похож на себя. Нос заострился, под глазами чернота, борода слиплась, осела, что у плешивого тысяцкого. На звук шагов Кирша не повернулся, так и лежал, не пошевелившись, а живой ли?