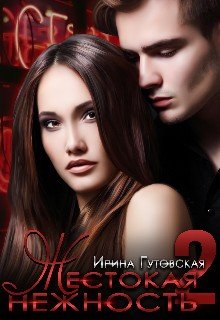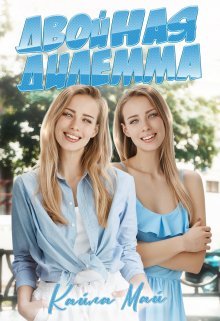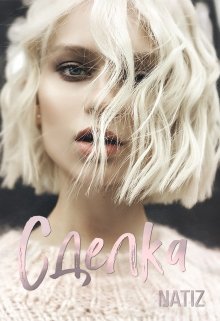🕮 Читать книгу «Моя ревность тебя погубит» онлайн
Автор: Лиза Лазаревская
Размер шрифта:
— Господи, — плачет она. — Клянусь, я исправлюсь, я буду всё для неё делать.
— Я тебе давал миллион шансов, которыми ты не воспользовалась. У меня нет времени слушать тебя весь день, сейчас придут санитары. И поверь, из тебя выбьют не только твое пристрастие к бутылке, но и всю ненависть по отношению к дочери, которой ты жила. Тебе же будет лучше сотрудничать с врачами, иначе я превращу тебя в овощ.
***
Когда я возвращаюсь домой после работы, под вечер, Полина уже смотрит на меня понимающим и болезненным взглядом. Сколько бы она меня ни умоляла, я не могу просто так отпустить то, что произошло.
Подойдя ближе, я целую её в лоб, когда её отец кладёт вилку на стол при виде меня.
— У меня есть новость, — говорю я твёрдым голосом, намереваясь рассказать о том, что я отправил Веру на лечение.
И что бы они ни попросили сейчас, моё решение не изменится.
Теперь её нет в жизни Полины.
Есть только я.
Её отец.
И я.
И я ни с кем не буду делить её.
25. Ревность
! Сцены в этой главе имеют временной промежуток.
Его слова не становятся для меня неожиданностью, но я не думала, что он скажет это при папе.
Стас думает, что я святая, всепрощающая и глупая. И очень странно, если я ему нравлюсь, такой как есть, потому что школа кое-что показала мне: любят мерзких и стервозных девочек, но не тихих, слабых и дружелюбных.
Он думает, что меня тянет к матери, которая всячески пытается меня уничтожить. Это не так, я бы хотела материнской любви, но за столько лет знаю, что моя мать просто не способна на это. Ей это чуждо или просто не нужно. Однажды, когда она как всегда напилась, я слышала, как она жалеет, что не сделала аборт и что родила от такого никчёмного человека, как мой папа.
Но я люблю своего папу. Всю свою осознанную жизнь я мечтала о том, чтобы мы с ним жили вдвоём, без неё. Даже если бы это означало, что в свои шестнадцать мне нужно устроиться на любую работу — официанткой или уборщицей.
Возможно, в глубине души я обижена на то, что он постоянно прощает её или даже не хочет замечать, какой она монстр. Но в любом случае — я его люблю. И знаю, что его верность ей — отчасти благодарность за то, что она ухаживала за ним после травмы. Это длилось не месяц и даже не год, она тянула всё на себе больше пяти-шести лет.
Собравшись с духом, я смотрю на Стаса. На тёмные глаза, излучающие спокойствие и бурю одновременно. На резкие и грубые черты лица, чёткие линии его челюсти, острые скулы.
— И к-как долго она там п-пробудет? — спрашивает папа, стараясь казаться холодным. У него не получается, потому что его голос дрожит — и не из-за заикания.
— Долго, — просто отвечает Стас, не отрывая от меня взгляда. — Ей нужна помощь.
Даже в таком спокойном тоне удаётся расслышать его жёсткость. Мне нужно срочно уйти отсюда на время, потому что я боюсь смотреть папе в глаза. Он будет винить меня за то, что это произошло с мамой. Даже если он сам понимает, что она ненормально ведёт себя.
— Извините, я сейчас приду.
Отодвинув стул, я встаю из-за стола и быстро направляюсь к лестнице и убегаю наверх, дохожу до ванной в нашей спальне и закрываю дверь. Так непривычно думать, что в этом доме есть что-то моё, наше.
Называть кровать, спальню, ванную, весь этот дом нашим.
Нет, это не моё.
Это принадлежит Стасу.
Я никогда не смогу свыкнуться с тем, что это и моё тоже.
Включив холодную воду в раковине, я мочу сначала руки, а затем лицо — потому что оно красное. Настолько красное, что я почти теряю сознания. Ненавижу такие состояния, когда я краснеют, а это происходит почти всегда — от страха, смущения, возбуждения, радости, нервов. Чаще от отрицательных эмоций, конечно. Это странная реакция моего организма, которая иногда мешает мне жить.