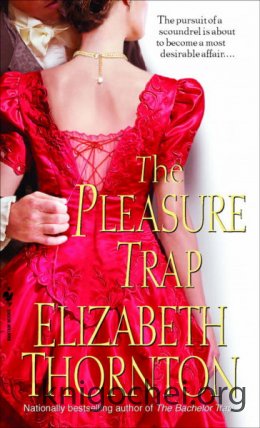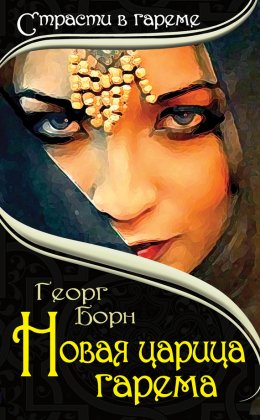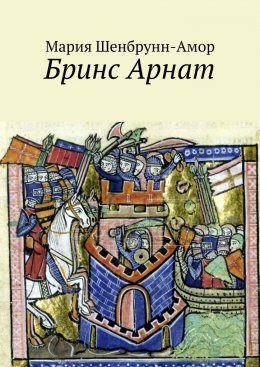🕮 Читать книгу «Медный всадник» онлайн
Автор: Полина Саймонс
Размер шрифта:
Все, что бы я ни делала для выживания, попросту недостаточно.
Для того чтобы выжить, от меня требуется что-то большее. Что-то принадлежащее к миру иному. Какая-то другая сила, которая могла бы перевесить, пересилить, заглушить холод и голод».
Желание есть куда-то ушло, перетекло в постоянное недомогание, потерю интереса ко всему окружающему. Татьяна даже бомбежки теперь полностью игнорировала: не было сил убегать, падать на землю, поднять раненого или подвинуть тела. Тупое онемение распространилось по всему телу, апатия заковала ее стальной броней, броней, через которую очень редко могло проникнуть подобие прежних чувств.
И эти чувства по-прежнему принадлежали родным. Маме, будоражившей ее сердце, Даше, неизменно вызывавшей сочувствие и сострадание… Даже Марина, несмотря на свою мерзкую алчность, еще была способна ее тронуть. Даже Нина Игленко была достойна жалости. Нина, дождавшаяся смерти последнего сына, прежде чем навеки закрыть глаза.
Нужно перестать чувствовать.
Она уже сцепила зубы, чтобы протянуть очередной день. Придется сцепить их крепче. Потому что еды больше нет.
«Я не стану дрожать.
Не стану шарахаться от своей короткой жизни.
Не опущу голову.
Найду способ поднять глаза.
И отсеку все.
Кроме тебя, Александр.
Ты всегда со мной».
Оборотная сторона белых ночей – ленинградский декабрь. Белые ночи – свет, лето, солнце, голубое небо. Декабрь – тьма, метели, тучи, нависшее над городом серое небо. Угнетающее небо.
Только часам к девяти по городу разливался серый свет. Держался часов до трех, потом незаметно исчезал, оставляя лишь мрак.
Полный мрак. В начале декабря электричество отключили окончательно. И по-видимому, навсегда. Город окутала ледяная ночь. Весь городской транспорт встал. Для автобусов не было бензина. Для трамваев – тока.
Рабочая неделя уменьшилась до трех дней, потом до двух, потом до одного. Электроэнергию подавали только на предприятия, имевшие хоть какое-то отношение к фронту: Кировский, мамину фабрику, больницу, где работала Таня, водоканал. Но в домах не было ни электричества, ни отопления. Вода оставалась только на первом этаже. Вниз, по ледяному спуску.
Над городом стояла дымка, скорее похожая на серую пелену, окончательно лишавшая Татьяну присутствия духа. И невозможно было думать ни о чем, кроме собственной смертности. Совсем невозможно.
В начале декабря Америка наконец вступила в войну: что-то связанное с японцами и Гавайями.
– Может, хоть сейчас, все вместе… – мечтала мама.
Через несколько дней наши отбили у немцев Тихвин. Именно этого так ждала Татьяна. Тихвин! Это означало железную дорогу, ледяную дорогу, еду! Повышение норм!
Но ничего не случилось.
И нормы не повысили.
Сто двадцать пять граммов хлеба.
Когда свет погас, радио тоже замолчало. Ни метронома, ни новостей. Ни света, ни воды, ни дров, ни еды. Тик-так. Тик-так.
Они сидели, смотрели друг на друга, и Татьяна знала, о чем думают все.
Что дальше?
– Расскажи нам анекдот, Татьяна.
Вздох.
– Покупатель просит продавца: «Можно отрезать пять граммов колбасы?» – «Пять граммов? Издеваетесь?» – «Вовсе нет. Если бы я издевался, попросил бы нарезать».