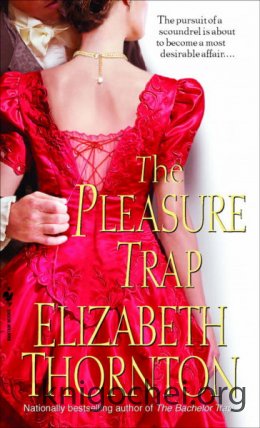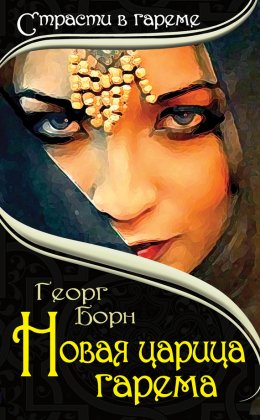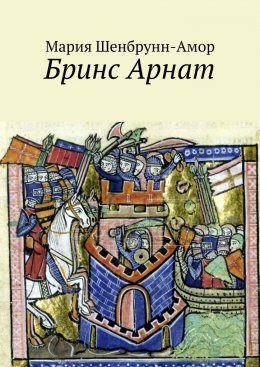🕮 Читать книгу «Медный всадник» онлайн
Автор: Полина Саймонс
Размер шрифта:
Положение под Москвой становилось все более угрожающим. Город, как и Ленинград, бомбили каждый день.
– От бабушки Анны давно нет вестей, – заметила Даша вечером. – Таня, а ты получала что-нибудь от Дмитрия?
– Конечно, нет. Вряд ли он вообще объявится, – хмыкнула Татьяна и, помедлив, добавила: – И от Александра ни слова.
– Почему же? Я получила письмо. Три дня назад. Просто забыла вам сказать. Хочешь прочесть?
«Дорогая Даша и девушки!
Надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии. Вы ждете моего возвращения? Я очень хочу снова вас увидеть.
Командир послал меня в Кокорево, рыбачий поселок, где теперь не осталось людей. На его месте – лишь воронки от бомб. В нашем распоряжении только две лошади, потому что бензина для грузовиков нет. Нас, двадцать человек, отправили сюда, чтобы проверить крепость льда: сможет ли он выдержать грузовик с продуктами и вооружением или хотя бы лошадь с гружеными санями?
Мы вышли на лед. Холод стоит такой, что можно подумать, озеро промерзло до дна, однако нет. Местами лед удивительно тонок. Мы сразу же потеряли грузовик и двух лошадей. Долго думали, что делать дальше, потом я взял кобылу и проскакал почти четыре часа по льду, до самой Кобоны, при двенадцати градусах мороза. Я решил, что лед выдержит. Как только я вернулся с полными санями продуктов, меня немедленно поставили во главе транспортного полка, куда входят исключительно ополченцы. Настоящих солдат на такое дело не поставишь.
А пока, прежде чем лед окончательно затвердеет, нам приходится гнать лошадей с подводами до Кобоны, грузить мукой и другими припасами и возвращаться. Большинство никогда не имели дел с лошадьми и редко бывали на морозе, поэтому кто-нибудь то и дело обмораживается или проваливается в полыньи и тонет. Сейчас мы пытаемся привезти в Ленинград топливо. Недостаток топлива почти так же губителен, как недостаток еды. Не на чем выпекать хлеб. Из-за отсутствия топлива простаивают печи. Мы потеряли грузовик с керосином и поэтому пока что решили использовать только лошадей. Мало-помалу обозы из Кобоны тянутся в Кокорево. В день мы привозим около двадцати тонн. Этого, конечно, мало, но все же кое-что! Сейчас я в Кобоне, гружу мешки на сани и стараюсь не смотреть на муку, зная, как вы голодаете. Попробуем доставить продукты, чтобы по карточкам больше давали.
Дописываю спустя две недели. Не было времени докончить.
Нет нужды говорить о том, как мы разозлили немцев своей ледяной дорогой. Они бомбят нас безжалостно, день и ночь. Правда, по ночам меньше. То и дело какие-нибудь сани уходят под лед. Наконец начальство решило найти мне лучшее применение, и теперь я снова в Кокореве, командую зенитным подразделением, сбиваю самолеты противника. Не представляете, как я счастлив, когда удается сбить очередной самолет, готовящийся пустить под лед грузовик с едой для Ленинграда.
Теперь лед достаточно толст, если не считать нескольких опасных мест, и у нас хорошие грузовики. Они могут делать по льду не меньше сорока километров в час. Мы назвали нашу дорогу Дорогой жизни. Очень точное название, не находите?
Все же без Тихвина мы не в состоянии привезти в Ленинград полную норму продуктов. Необходимо отбить Тихвин у фашистов. Как по-твоему, Даша, не стоит ли мне попроситься на это задание? Тем более что мне выдали новехонький автомат Шпагина. Прекрасное оружие!
Не знаю, когда смогу снова вернуться в Ленинград, но вернусь с продуктами, так что ждите и надейтесь.
И держитесь.
Ваш Александр».
«Иди, иди, не поднимай глаз, – твердила себе Татьяна. – Закрой шарфом лицо, а если понадобится, даже глаза, чтобы не видеть город, твой двор, где валяются трупы, улицы, где мертвецы лежат на снегу. Подними ногу и перешагни через очередного. Или обойди. Не смотри… тебе нельзя смотреть».
Утром Татьяна видела только что умершего человека, без нижней части тела, явно откромсанной топором… Сжимая в кармане пистолет Александра, она плелась сквозь метель, упорно глядя в землю.
Ей пришлось дважды доставать его на улице в кромешной тьме. Теперь приходилось вставать все раньше, чтобы получить хлеб.
Благодарение Богу за Александра.
В конце ноября взрывной волной выдавило стекло в комнате. Пришлось завесить дыру бабушкиными одеялами. Больше у них ничего не было. Температура в комнате мало чем отличалась от уличной.
Татьяна и Даша перенесли буржуйку в свою комнату, поставили перед маминой кушеткой, чтобы, пока та шьет обмундирование, пальцы не замерзали. Фабрика продолжала платить по двадцать рублей за каждый сшитый сверх нормы комплект. За весь ноябрь мать сшила пять комплектов. Потом дала Татьяне сто рублей и велела пойти поискать еды.
Татьяна вернулась со стаканом черной грязи, набранной кем-то у сгоревших Бадаевских складов. Она объяснила, что это спекшийся с землей сахар.
– Как только грязь осядет на дне, чай будет сладким, – добавила она, пытаясь улыбнуться.
«Переступай через мертвецов, Татьяна, не поднимай глаз, стой в очереди и старайся не потерять место, потому что тогда хлеба не останется и придется тащиться в другой магазин в напрасной надежде… Стой, не двигайся, кто-нибудь придет и оттащит тела». Бомба упала на улицу, прямо на Фонтанку, на очередь, в которой стояла Татьяна, и разорвала в клочья с десяток женщин. Что делать? Позаботиться о раненых? Или о семье? Или помочь перетаскивать мертвых? «Не поднимай глаз, Татьяна».
«Не поднимай глаз Татьяна, смотри на снег, чтобы видеть только разваливающиеся стеганые сапоги. Раньше мать состегала бы тебе другую пару. Но теперь мама не может сшить лишний комплект обмундирования даже с помощью Даши, хотя в октябре строчила на машинке по десять комплектов в день».
«Александр! Я хочу сдержать данное тебе слово! Хочу остаться жива… только не знаю как. Даже с моими малыми потребностями и не слишком хорошим аппетитом я не могу существовать на двести граммов в день. Двести граммов хлеба, на двадцать пять процентов состоящего из съедобной целлюлозы: опилок и сосновой коры. Хлеб со жмыхом из хлопковых семян раньше считался бы ядовитым… но то было раньше. Да и хлеб – это не хлеб, а почти сухарь: вода да нечто вроде муки. Кажется, ты называл такой галетами? Но он темный и тяжелый, как булыжник. Я не могу выжить на двухстах граммах такого хлеба.
Не могу выжить на бульоне.
Не могу выжить на водянистой овсянке.
Как не смогла Люба Петрова. Как не смогла Вера. Как не смог Кирилл. Нина Игленко. Смогут ли мама и Даша? А Марина?