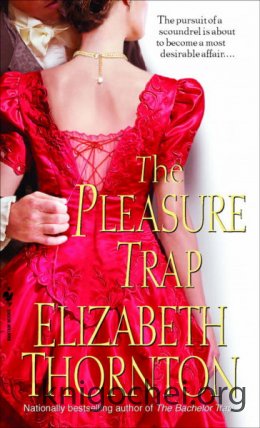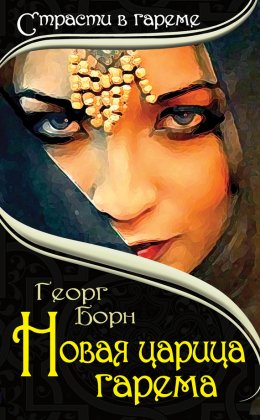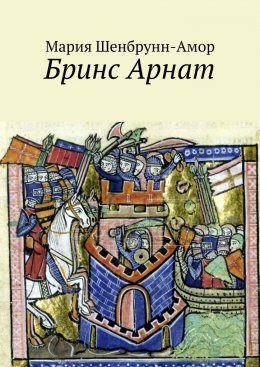🕮 Читать книгу «Медный всадник» онлайн
Автор: Полина Саймонс
Размер шрифта:
– Не могу.
– Можешь и съешь. Что? Не плачь.
– Я не плачу, – заверила Татьяна, изо всех сил стараясь не заплакать.
Отрывая зубами большие куски сыра и мяса, она завороженно смотрела в его теплые, цвета карамели, глаза. Глаза Александра.
– Шура, – призналась она, – сказать не могу, до чего я голодна! Даже объяснить не умею.
– Знаю, Таня.
– А в армии лучше кормят?
– Да, особенно на передовой. А офицерам полагается особый паек. Можно кое-что купить. Кроме того, мы получаем еду до того, как она доходит в город.
– Так и должно быть, – счастливо пропыхтела Татьяна с набитым ртом.
– Ш-ш-ш… – улыбнулся он. – И сбавь обороты, иначе живот разболится.
Она сбавила обороты… немного. И тоже улыбнулась – едва.
– Для остальных я принес немного масла и пакет пшеничной муки. И еще двадцать яиц. Когда ты в последний раз ела яйца?
– Кажется, пятнадцатого сентября, – припомнила Татьяна. – Дай мне немного масла. Ты можешь подождать или должен возвращаться?
– Я специально пришел, чтобы повидать тебя.
Они стояли, глядя друг на друга, но не касаясь.
Они стояли, глядя друг на друга, но не разговаривая.
– Времени нет сказать все, – пробормотала Татьяна, глядя на длинную очередь у магазина. Есть сразу расхотелось. – Я думала о тебе, – призналась она, стараясь говорить спокойно.
– Не думай больше обо мне, – с обреченной решительностью попросил Александр.
Она отступила.
– Не волнуйся, ты достаточно ясно дал понять, чего хочешь на самом деле.
– О чем ты? – ошеломленно спросил он. – Ты понятия не имеешь, каково там.
– Зато знаю, каково здесь.
– Мы гибнем один за другим.
Александр помолчал.
– Гриньков погиб.
– О нет!
– О да.
Он вздохнул.
– Пойдем становиться в очередь.
Александр оказался в толпе единственным мужчиной. Они простояли сорок пять минут. В забитом народом помещении было тихо. Говорили только Татьяна с Александром. Говорили и не могли наговориться. Обо всем и ни о чем: о холодной погоде, немцах, выжидавших, когда Ленинград встанет на колени, еде. И не могли наговориться.